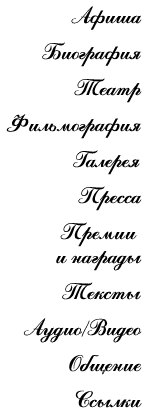Самая детальная информация тротуарная плитка дмитров производство здесь.
Зов несбывшейся любви
О "Варшавской мелодии" в театре имени Ленсовета невозможно писать, не вспоминая вахтанговский спектакль.
Невозможно писать об Алисе Фрейндлих, не вспоминая Юлию Борисову. Настолько они разные. И спектакли и актрисы. Кажется даже, что пьесы разные. О борисовской Геле А.Свободин, автор рецензии, которую мы не раз вспомним, сказал: "Отнюдь не девочка из предместья, женщина из центра, и женщина блистательная". Геля Алисы Фрейндлих скорее девочка из предместья. Если заботиться об оттенках смысла — не девочка, а девчонка.
Геля Борисовой рождена быть артисткой — это ясно, стоит только на нее взглянуть. В ней все артистично, каждый жест. Бедное студенческое платьице выглядит на ней как туалет от модного портного.
Героиня Фрейндлих становится настоящей артисткой, превозмогая многое, в том числе бедное, обделенное детство. В ней ни капли светскости, и очарование ее не от манер. Манеры как раз не так уж и хороши. Галстук, который она соберется подарить любимому, она спрячет за пазуху. "Непобедимость идет от достоинства", — гордо скажет она и тут же шмыгнет носом: мороз. Когда Борисова, получив подарок от Виктора, ликующе восклицает, почти поет: "Какие туфельки!" — это, по словам Свободина, следует перевести: "Какая любовь!". Только так это и звучит. Отсюда и радость. По старой песенке: "Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь".
У Фрейндлих та же фраза звучит куда более конкретно. Эта Геля и в самом деле никогда не носила таких туфелек. И в ее восклицании, почти вопле, вырвавшемся неожиданно для нее самой и уж, во всяком случае, не рассчитанном на то, чтобы поразить Виктора, звучит и веселая девчачья жадность и даже (чуть-чуть, ровно настолько, чтобы быть смешной, а не неприятной) вульгарность. Что-то вроде знаменитого "У-у-аа-у" Элизы Дулиттл, которое вырывается у нее в минуту потрясения уже тогда, когда она сдала экзамен на царственные манеры.
Та Геля поражала с первого взгляда. В эту же, кажется, невозможно не влюбиться, но для этого нужно взглянуть на нее по меньшей мере дважды. Когда Геля Алисы Фрейндлих весело рассказывает Виктору, как во время войны она спасала евреев от немецких патрулей, веришь, что это было так. И особенно понимаешь, почему она вспоминает комическую сторону трагической ситуации: это естественное проявление ее характера.
Так же естественно для нее сейчас возвращаться к войне, заново, все более и более трудно ее осмысливая.
Тот же Свободин говорил о рациональности, рассчитанности зоринсокой пьесы. По правде сказать, когда смотришь вахтанговский спектакль, хочется упрекнуть Зорина даже в излишней рациональности. В этом спектакле (Свободин нашел для него такие сравнения: "вальс", "сонет") размышления героини о фашизме не очень обязательны (в последний раз сошлюсь на рецензию Свободина: "не всегда убедительны ее философские остроты".) Смотря ленинградский спектакль, с облегчением избавляешь автора от этих упреков. Рационалистичность оказывается напряженной мыслью, а разговоры, казавшиеся не обязательными, — кульминацией.
Война, ужасы фашизма и новая его угроза, трагедия Польши и маленькой ее дочери — все это окончательно выходит из подтекста, становясь главным. Художник А.Мелков оформил "Варшавскую мелодию" как документальную драму. Действие идет на фоне фотографий, спроецированных волшебным фонарем: Москва, Варшава, москвичи, варшавяне. По бокам сцены- фотографии многократно увеличенных человеческих лиц. Целая толпа. Вероятно, это должно напомнить, что все рассказанное — о нас. И среди нас. Но замысел художника не воплощен. Фотографии лишь сообщают о месте действия, они служебные, как таблички в шекспировском "Глобусе": "Лес", "Река". Художественной функции у них почти нет.
Мне кажется, если уж предпочесть подобный принцип оформления, то не затем, чтобы подбирать фотографии по элементарным географическим ассоциациям, а затем, чтобы сделать их вторым художественным планом, тогда на них могли бы появиться разрушенная Варшава, гетто, победно марширующий фашизм, вообще — война это соответствовало бы мысли постановщика Игоря Владимирова и игре Алисы Фрейндлих.
Фрейндлих играет не только характер Гели, но его предысторию, его истоки. В том числе — национальные.
Ее легкость, ее очарование (говоря словами Заболоцкого, "младенческая грация души") не только от природы, они — завоевание, они — протест против всего, что было с Гелей и ее Польшей.
"Я должна поддерживать традицию моей родины и показывать, что Польска еще не згинела", — шутливая фраза, которую Геля бросает, прихорашиваясь к новогоднему вечеру, звучит в спектакле почти серьезно.
У Бориса Слуцкого есть стихи, посвященные Владиславу Броневскому:
...до той поры не отзвенело,
не оскудело наше дело.
Оно, как Польша,
не згинело...
и еще о Польше:
пока ее толкут и крутят,
она бушует и хохочет.
А то, что было,
То, что будет,-
Про это знать она не хочет.
Как последние строки стихов неотделимы от предыдущих, так это задорное и заразительное самоутверждение, граничащее чуть ли не с беспечностью ("Про это знать она не хочет"), неотделимо от горькой памяти прошлого и суровых мыслей о будущем. Как ни парадоксально, оно — форма их выражения.
Легкость, изящество артистизм поляков поражают каждого, кто впервые попадает в их страну. Не сразу увидишь за этим самолюбиво припрятанную боль, боль за попранную фашистами Польшу.
В игре Алисы Фрейндлих эта боль ощутима постоянно.
Фрейндлих показывает, как постепенно, трудно страх Гели перед жизнью, недоверие к миру вытесняются наконец-то пришедшей если не любовью, то верой в любовь.
Настороженность не может пройти вовсе; Геля все время не верит в счастье, а когда узнает о законе сорок седьмого года, запрещающем браки с иностранцами, не удивляется. Словно сбылись худшие ее ожидания. И когда, уже через десять лет, в Варшаве, она твердит Виктору, расставаясь с ним: "Я тебя не пущу", — в голосе ее тоска, но не уверенность.
Алиса Фрейндлих сыграла трагическое столкновение неверия в возможность счастья с безумной жаждой счастья — жаждой, которая не хочет иссякать, что бы там ни было.
Усталый Виктор засыпает, не дождавшись торжественных Гелиных приготовлений к новогодней вечеринке, и Геля не будит его не просто из-за нежности к нему. Это — самой собой разумеется, но и ей эти минуты нужны очень. Ее ироничность, ее блеск, ее женская самоуверенность вдруг спадают с нее, и кажется, избавляется она от них с облегчением. Остается главное. То, что было в Геле и прежде, и за что — теперь мы это поняли — мы и полюбили ее. Тихо-тихо, боясь разбудить, берет она руку Виктора и кладет ее себе на плечи. Обнимает ею себя.
Опять хочется сравнивать. У Борисовой Геля в эти минуты матерински нежна к спящему Виктору. У Фрейндлих она сама ждет ласки, любви, опоры.
Так и сидит она на полу, уставив взгляд на догорающую в пальцах спичку. Словно загадала что-то.
Эту паузу не хочется расшифровывать, как театральную метафору. Ее просто воспринимаешь как минуту большого искусства.
Жажда любви у Гели так велика, что возможен самообман. Виктор в спектакле не личность, хотя бы в малейшей степени достойная Гели, а незначительная точка приложения значительных сил, то есть чувств. Тут же для зрителя появляется опасность впасть в самообман. Так велико желание весь спектакль мерить мерой осмысленности, которая есть в игре Фрейндлих, что пытаешься уговорить себя: так и нужно, таким Виктор и задуман, так даже интереснее, пусть она придумает его. Но не выходит. Приходится убедиться, что дело не в режиссерском замысле, а в очевиднейшей слабости исполнителя А.Семенова.
Его Виктор антипатичен с начала и до конца, без каких бы то ни было просветлений. Никакого духовного пробуждения (как в пьесе и как у вахтанговцев) под влиянием Гели у него не происходит. Ироничная Гелина фраза , что, может быть, ее историческая роль в жизни Виктора состояла в том , чтобы научить его носить галстуки, невольно звучит всерьез. Ничего, кроме относительной элегантности и фатовых усиков Виктор в ходе спектакля не приобрел.
Все это, наверное, неожиданно для Семенова и уж никак не соответствует его актерским намерениям. Такое отношение к характеру Виктора у нас возникает в результате несоответствия замысла и средств исполнения. Задумав сыграть обаятельного увальня, Семенов так немыслимо педалирует, что получается человек, слишком хорошо сознающий свое обаяние, — так хорошо и так расчетливо, что обаяния уже и не разглядишь за этим напором самоуверенности.
Неудача с Виктором не может быть частной. Пьеса о двух людях. И трудно сказать, о ком в большей степени.
Даже на игре Фрейндлих отражается эта неудача: иногда и у нее появляется подчеркнутость, рожденная по-видимому, ощущением, что партнер глух к ее игре, что надо его расшевелить. Да и вообще не всюду удается ей тянуть за двоих. В варшавской сцене она играет прекрасно, но ничего поделать не может: на этот раз особенно важно осмысление того, что произошло с Виктором. Здесь в спектакле зияет провал.
В финальном эпизоде спектакль вновь набирает высоту. Отчасти потому, что непреходящая несимпатичность семеновского Виктора тут более или менее совпадает со стадией развития характера; главное же — замечательна Алиса Фрейндлих.
Алиса Фрейндлих сыграла того Гелиной жизни жестоко и резко, отказавшись от своего обаяния. Постаревшая женщина с прической a-la Джульетта Мазина, не идущая ей, с заученной улыбкой, суетливая, дьявольски усталая. Разговор с Виктором ее только тяготит, ничто в ней не загорается.
Могло ли быть иначе? Обманутая жажда счастья, такая жажда, обманутая вера в любовь, такая вера не разрушить жизни, хотя не разрушили личности.
Виктор не сознает своей обделенности, думает, что полностью счастлив. Или по крайней мере, заставляет себя так думать. Геля знает, что несчастлива.
Ощущение идеала не утрачено ею. Пока оно не утрачено, личность сберегает себя от распада. Счастье может прийти или не прийти — это зависит не от нас. Но важно, чтобы представление о счастье, вера в то, что она существует, не покинули человека.
Как у Тютчева:
И вот слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне
"Не умолкавшие"- это главное. Не умолкли они и в Гелене. Все неосуществившееся в ее жизни воплотилось в ее искусстве. В песне, которую мы слышим.
Это было рискованно: демонстрировать искусство певицы, которой все восхищаются. Сколько раз так было в пьесах: талантливые (по авторским уверениям) поэты читали плохие стихи, талантливые певцы ужасно пели. Или — это все же лучше — разевали рот под магнитофонное пение.
Алиса Фрейндлих поет не просто профессионально: слышав ее пение в других спектаклях и в кино, профессионализму не удивляешься. Она поет так, что песня (чья музыка, написанная Л.Балаем, удачна, и чей польский текст пришелся к теме пьесы) многое договаривает за нее.
У песни своя судьба в спектакле. Впервые Геля поет ее Виктору в студенческом общежитии, полудурачась, но и серьезно вслушиваясь в грустный смысл истории о прошедшей любви, о встрече двух некогда близких людей "Знайомы? Незнайомы". А потом песня звучит в варшавском эпизоде — зов несбывшейся любви, неискупленного страдания, незакрытой трагедии.
"Театр" № 11 — 1967 г.