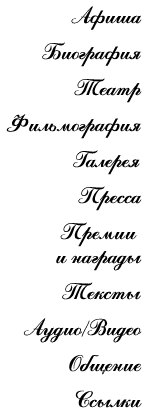Купить пуансон и матрицу промышленный свет пуансоны и матрицы. Банковскии перевод в европу oplatim.online.
Мои богини
Почему про них? Русская сцена знает немало замечательных актрис, вдохновенно игравших и играющих эту тему, "личную и мелкую". Очень просто: именно их имена прежде всего и скорее всего, не задумываясь называли самые разные люди, отвечая на вопрос редакции "ПТЖ" — с какими мгновениями и именами связаны их сокровенные театральные впечатления "про любовь". Ольга Яковлева, Алиса Фрейндлих — произносили, как пароль, застигнутые на лету и спросонья, на бегу и в глубокой задумчивости самые разные мужчины и женщины, молодые и не очень, артисты, режиссеры, театроведы, лирики, физики — в общем, театральные зрители.
Почему про них? Русская сцена знает немало замечательных актрис, вдохновенно игравших и играющих эту тему, «личную и мелкую». Очень просто: именно их имена прежде всего и скорее всего, не задумываясь называли самые разные люди, отвечая на вопрос редакции «ПТЖ» — с какими мгновениями и именами связаны их сокровенные театральные впечатления «про любовь». Ольга Яковлева, Алиса Фрейндлих — произносили, как пароль, застигнутые на лету и спросонья, на бегу и в глубокой задумчивости самые разные мужчины и женщины, молодые и не очень, артисты, режиссеры, театроведы, лирики, физики — в общем, театральные зрители...
Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Все те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?.
«Другие девы» их не заменили и не могли заменить. В театре вообще никто никого заменить не может. Тем более их — двух негласных королев московской и петербургской сцены. Проходит время, одна театральная эпоха, словно заря, спешит сменить другую. Но их звезды как сияли, так и продолжают сиять: что им смена театральных эпох, когда они сами — эпохи? Что им популярность «других дев», прелестных и разных, когда они познали настоящую театральную славу — вроде той, о которой говорила Нина Заречная: «чтобы толпа возила меня на колеснице». И если до колесниц во второй половине двадцатого века все же дело не дошло, то на спектакли с их участием стояли ночами, зрители не просто на них ходили — молились. Когда Яковлева и Фрейндлих появлялись на сцене, у целого зала учащалось дыхание. Зал и сегодня замирает, когда они выходят из-за кулис. Вглядывается в эти хрупкие фигурки, вокруг которых словно светится невидимый нимб — кажется, их театральные легенды отбрасывают тени, волшебным покрывалом окутывают их, усиливая сегодняшнее свечение... Это свечение поддержано блеском мастерства и гордостью безукоризненно отточенного артистизма. Но есть в нем и что-то щемящее: отсветы нездешнего света, ускользающая красота, тревожные огни какой-то другой, не сегодня и не здесь проживаемой жизни.
Двадцать лет назад вышла книга Майи Туровской «Бабанова. Легенда и биография». Туровская «назначила» Яковлеву и Фрейндлих наследницами бабановских традиций и бабановской славы. «Актрисы примеряли на себя если не облик, то репертуар, ее особую женственность без зрелости, ее славу... Теперь можно было услышать, что Алиса Фрейндлих с ее очаровательной музыкальностью, тонким, изящным и беспощадным рисунком ролей — актриса бабановского толка... Ольга Яковлева, наивная и опытная, нелогичная и нервная, с ее прихотливыми, как бы синкопированными ритмами и срывающимся дыханием, примеривала на выпуклый лоб бабановскую корону... Они играли куда больше. Для них ставили спектакли. Вокруг их индивидуальности складывался театр... Но великой была Бабанова. Это не умаляет таланта и славы ее наследниц. Просто Бабановы рождаются раз в столетие».
Они действительно сыграли легендарную бабановскую роль — «Таню» Арбузова. И, если уж искать рифмы и совпадения, — шекспировскую Джульетту. Щемящая хрупкость облика, божественная пластическая грациозность, прелестная нелогичность интонаций, голос, который узнаешь еще из-за кулис.
О Тане в пьесе сказано: «немного музыкантша» — вместе с легендарной ролью Яковлева и Фрейндлих унаследовали бабановскую музыкальность. Кажется, интонационную партитуру их ролей можно записать нотами. Рецензенты, будто сговорившись, называли свои статьи на один лад: «Концерт для скрипки с оркестром» (А. Смелянский в журнале «Театр») или «Первая скрипка нашей сцены» (Н. Таршис в «ПТЖ»). Много тайных перекличек и прямых совпадений. Только слава и корона каждой достались свои. Как и злая судьба потерять театр, где ставились спектакли «вокруг их индивидуальности», где все любовно из года в год сочинялось для них и на них... Умер Эфрос — Яковлева осталась без Дома, а Фрейндлих, перейдя из театра им. Ленсовета на другую сторону Фонтанки, в БДТ, так же подлинного дома больше не обрела. Каждая из них пережила свой «Вишневый сад» с катастрофой попавшего в беду и исчезнувшего театрального дома и театрального счастья. На каких площадках они бы потом ни играли, все равно в зрительской памяти Фрейндлих и Яковлева нерасторжимы с адресами Владимирский,12 и Малая Бронная. Именно там в 1960 — 1970-х их театр переживал свой золотой век. Не исключено, что «изменчивые тени» («вы снова здесь, изменчивые тени...» пела Алиса в «Людях и страстях» на стихи Гете) тайно дремлют в складках пыльных кулис...
Сегодня, когда век завершился, мы можем сказать: такие актрисы, как Ольга Яковлева и Алиса Фрейндлих, дважды в столетие не рождаются. Они никого не потеснили, не затмили ничью славу. Их артистический дар, равно как и артистическая слава, давно вне обсуждения. На их короны сыпятся все новые бриллианты — золотые «Маски», «Софиты», Государственные премии и т. п., только сами имена — вне голосований и номинаций. Никому же в голову не придет обсуждать или награждать ангела, глядящего на нас с Александрийского столпа.
Какой-нибудь архивный юноша, разбирая в неведомом грядущем рецензии и фотографии, подивится совпадениям в их сценических биографиях. Таня и Лика в «Моем бедном Марате», Джульетта... Чехов и Шекспир как авторы-спутники... Настя в горьковском «На дне»: Яковлева — на сцене чужой и враждебной Таганки, Фрейндлих — в одном из «закатных» товстоноговских спектаклей на «неродных» подмостках Большого драматического. Они примерили на себя королевские мантии и королевские поражения: Фрейндлих — в «Макбете», Яковлева — в «Наполеоне» и «Король умирает». Оставим будущему историку театра соблазнительный сюжет двойного актерского портрета, изыскания сравнительного анализа. Наверное, ему трудно будет устоять перед увлекательнейшим сюжетом вечного противостояния двух культурных пространств, московской и петербургской традиций, школ — сюжет старинный, тянущийся из века в век. Конечно же, он обнаружит в игре Алисы Фрейндлих серебряный холодок академизма, регламентированность, чуть надменную дистанцированность от сценических страстей. Манера Ольги Яковлевой мгновенно выдаст в ней горячечную московскую пылкость, очаровательную сбивчивую «неправильность», «шепоты и крики», горчайшие душевные всплески. У одной — симметрия и перспектива, у другой — вечная ассиметрия душекружения... Да только не так все ладно и стройно! Потому что в ролях Алисы Фрейндлих под стальной оболочкой формы пылает нешуточный огонь, в то время как Ольга Яковлева с классическим совершенством и расчетом дирижирует своими знаменитыми сердечными вибрациями.
Наш нынешний сюжет более чем скромен: последние (то есть премьерные) роли двух легендарных актрис. Их ангелы-хранители, словно сговорившись, решили испытать их одинаково. Бродвейские пьесы «на двоих» им явно не по масштабу (Н. Саймону и А. Герни до Чехова и Уильямса — сотни световых лет). Пространство сочинялось явно не большими художниками, режиссуру также не назовешь значительной и тем более авторской (к Е. Каменьковичу и Н. Пинигину зрительская просьба одна: лишь бы не мешали, и на том большое спасибо!). Правда, в пару даны два первоклассных партнера — Олег Табаков и Олег Басилашвили, в этом вопросе ангелы сжалились. Более того, они даже поселили их героинь в одной географической точке, назначив им американское гражданство. «Живу в Нью-Йорке, одна ради разнообразия», — говорит Мелисса Гарднер (Ольга Яковлева). «Этот город пахнет, как переспелая дыня!» — презрительно бросает героиня Фрейндлих, нью-йоркская журналистка, очутившаяся в жаркой Калифорнии.
«Все те же ль вы?.» Разумеется, не те же. Невозможно оставаться все теми же, прочитав сто четыре и далее страницы про любовь, сыграв все ее состояния и времена года. Изменились их голоса. Яковлевой звучит чуть ли не на октаву ниже, причудливая нелогичность интонаций по-прежнему завораживает и тревожит, от инфантильности же не осталось и призвука (С. Никулин называл это «голосом Красной шапочки»). Чуть надтреснутый, с очаровательной хрипотцой голос Алисы Фрейндлих попробовал нижние регистры еще во времена Селии Пичем.
«Все те же ль вы?.»
Яковлевская лирика то и дело взрывается, подвергаясь вторжениям жанровых перепадов, чистая скрипичная мелодия сегодня прячется, заглушается, в ее игре явно прибавилось иронии, сарказма, она временами гротесково заостряет свой рисунок, устраивает чуть ли не хулиганские провокации.
Героини Алисы Фрейндлих перестали петь. Как раньше, в наэлектризованном зале театра им. Ленсовета, с сердечным трепетом и дрожью мы ждали, чтобы ее Дульсинея, или Катарина, или польская певица Гелена вышли к микрофону! Сегодня ее героини не поют, лишь комментируют, как поют другие. Шарлотта в «Вишневом саде»: «Как ужасно поют эти люди! Как шакалы!»
В «Тане» герои гадают, что будет с ними через несколько лет. «Ты станешь знаменитым конструктором», — обещает Таня Герману. «А ты?» — «А я буду тебя любить». В этой фразе когда-то слышали идеологическую безответственность и душевный инфантилизм, за что эпоха в лице драматурга перевоспитывала бедную Таню тайгой, смертью ребенка и прочими ужасами. «А я буду тебя любить...» — чей бы голос это ни озвучивал — Бабановой, Яковлевой, Фрейндлих — это звучит как музыка и, добавим, — как артистическая и человеческая тема больших актрис.
Что стало с этой темой сегодня? Как она поживает в вакуумном пространстве коммерческих зарубежных пьес, куда наших героинь занесло, словно в тайгу, на испытание? Как живется им, с их шестыми чувствами, — в пьесах без божеств, с их виртуозной музыкальной клавиатурой — в условиях «репризного» театра?
Героиня Ольги Яковлевой, художница, говорит: «Реализм — вот что мне необходимо. Взглянуть реальному миру в лицо, и не удивиться. И не моргнуть». Не так ли и наши героини: не удивляясь, они глядят реальному миру (в том числе — театральному) в лицо. Но, с печалью наблюдая за оскудением поэзии, поэтическим законам собственной природы и собственного искусства не изменяют ни на шаг.
Великое поражение великой леди
(Алиса Фрейндлих в «Калифорнийской сюите»)
На одной из церемоний вручения высшей петербургской театральной премии «Золотой софит» Алиса Фрейндлих ударилась лбом о микрофон и тут же отшутилась: «Ну вот, без режиссуры нам ни шагу ступить!» Тем не менее ее театральный шаг не останавливается — хоть с режиссурой, хоть без нее, как ни печально — преимущественно без...
В «Калифорнийской сюите» их дуэт с Олегом Басилашвили режиссурой не осмыслен и не поддержан, и что ж об этом горевать? Бейся не бейся лбом о микрофон, а надо выходить на сцену и обживать пластиковые декорации, безжизненный мир американского отеля, куда Нил Саймон поселил своих героев.
На этом спектакле невозможно не вспомнить «Этого пылкого влюбленного» — замечательный артистический дуэт Алисы и Владислава Стржельчика. Фрейндлих приводила своего партнера и зрителей в восторг головокружительной сменой женских масок, причуд, капризов, гримас... Торжество старомодного и упоительного актерского театра, покуда режиссура собирается с мыслями...
Поставщик бродвейских шлягеров, плодовитый и энергичный Саймон обычно предоставляет актерам свои пьесы как шанс приложения игровых сил, но уж не как возможность сотворить нечто высокохудожественное. Это — не его территория в искусстве. Человеческие столкновения и драмы упакованы им в безукоризненную товарную форму. Он знает законы хорошо сделанной пьесы, строит сюжет, словно искусный интриган, и остроумно-двусмысленные реплики отвешивает с аптекарским расчетом. Саймон пишет для публики, желающей бесхлопотно провести субботний вечер. Вот и петербургский зритель, пришедший в Большой драматический, вполне способен почувствовать себя там, где нас нет, — в далекой, солнечной, условной Калифорнии — с синим небом на заднике и шумом океана по радио. Но стоит в безжизненно-пластмассовых декорациях калифорнийского рая появиться ей, подойти к телефону и заказать «двойной виски с содовой!» — рай как рукой снимет. Потому что за стальной выправкой, гордой светлой головой, ироничным льдистым холодком героини Фрейндлих скрывается столько нешуточного драматического напряжения, что становится ясно: разразится буря, быть беде. Так оно и оказалось. Три акта «Калифорнийской сюиты» — три мини-истории, три встречи мужчины и женщины, три сцены душевных битв сыграны актерами как три блистательных психологических раунда. Главный полководец, горнист, солдат в них — Она. Герой Басилашвили вяло отбивает ее атаки. Устало сопротивляется. Вальяжно увертывается от ударов. Герои каждой из историй сходятся перед лицом неминуемой душевной катастрофы, неважно, что разработаны они драматургом на комических репризах. И, разумеется, все удары судьбы берет на себя она, героиня Фрейндлих — преуспевающая нью-йоркская журналистка, Актриса и тихая еврейская жена. Ее Актриса, номинированная на «Оскар», возвращается после проигрыша смертельно пьяная и уставшая домой. Какой блистательно-гневный бунт она устраивает в своем домашнем театре — против Киноакадемии, словно бросает вызов судьбе. «Я леди, потерпевшая поражение! Но — великая леди! Великое поражение!» Три истории — три поражения. Фрейндлих играет их как энциклопедию женской души, как сценическое пособие на тему «выживание в душевных катастрофах»... Собственно любовных историй у нее здесь нет: эту тему она ведет как «отражение» — она существует на правах тайного печального призвука...
В первой истории она проигрывает дочь. Боже, какую шахматную партию она выстраивает, с каким дьявольским искусством ведет борьбу с бывшим мужем — лишь бы только дочь осталась с ней. Как вдохновенно она его задирает! Как умеет вовремя затихнуть, отступить, приспустить свои боевые знамена с тем, чтобы, отдышавшись, снова ринуться в бой. Ее голос выдерживает «перепады» от ядовитых сарказмов до тихих жалобных нот. Когда дело ее совсем плохо, она осторожно посылает ему пробный мяч: «А может, нам имело бы смысл остаться вместе?» Он эту тихую реплику даже не услышит, и она мгновенно снимет тему. Она сражается с ним до последнего, в финале ей ничего не останется, как с горечью признать: «Я чувствую себя художником, который продает свою лучшую картину».
Надо видеть, как мечется перед зеркалом ее Актриса накануне церемонии «Оскара», сколько ртутного нетерпения и отчаянной надежды стоит за ее взвихренными кружениями по сцене, ее взбалмошно-капризными интонациями!. Как она благодарно, не дыша, вмиг оставив свои шуточки и кривляния, посмотрит на своего партнера, когда он вдруг торжественно пожелает ей «любви и удачи». (В этой роли неожиданно проскальзывают отблески-очертания ее легендарных «ленсоветовских» ролей. В своем белокуром шиньоне, в том, как она упрямо и горделиво, капризно и смятенно взмахивает головой, — вдруг узнаешь непокорную Катарину из «Укрощения строптивой».) Вернувшись после церемонии домой, она гневно срывает с себя шиньон, и ее сгорбленная фигурка с чуть «пьяной» размагниченной пластикой и растрепанным ежиком волос невыносимо напомнит театралам о давней ее Селии Пичем (которую в свое время сравнивали с «Любительницей абсента» Пикассо). Она покинет авансцену и усядется на балконе спиной к зрителям, свернувшись горестным калачиком — извечная общеженская поза жизненного проигрыша и саднящего одиночества.
Героиня последней истории, грустная, серая, словно моль, чем-то раз и навсегда перепуганная и так с этим тихим испугом в глазах и живущая, неожиданно застает в постели мужа «спящую красавицу» в дезабилье. Она могла бы устроить бунт, и какой! Но Фрейндлих на этот раз играет горчайшее смирение. Ее героиня, чувствуя себя униженной, как-то на глазах сжимается, делается совсем бесплотной, и только два огромных печальных глаза молчаливо кричат о том, сколько боли перегорело в ее душе. Она садится на краешек кровати, прикрывает разметавшуюся во сне девицу одеялом — материнским жестом, словно подтыкая одеяло собственному ребенку. В эту минуту ей звонит по телефону с другого конца Америки дочь. Решив скрыть от дочери истинную причину своей потерянности, она с печальной нежностью сообщает ей по проводу сквозь всю Америку: «Солнышко, эта авиакомпания потеряла весь мой багаж». И в этой нежности — тихое, истинно музыкальное завершение темы жизненного краха, которое Фрейндлих играет с подлинным мужеством и невыразимо женским душевным изяществом и шармом.
Большая актриса, знающая, как выглядят на сцене подлинные «люди и страсти», сегодня очутилась в карточном домике американской пьесы. В отсутствие любви и смерти, а также подлинной режиссуры. «Калифорнийская сюита» — пример того, как крупная актерская личность добывает художественную победу там, где в ходу совсем другие козыри. Как одним своим присутствием на сцене она страхует ее от пошлости и банальных решений, с которыми, как ни крути, связаны законы коммерческого спектакля. Как насыщает кислородом вакуумную, словно пересохшую атмосферу. Как умно, значительно читает со сцены страницы человеческих поражений. И делает своих героинь — «великими леди», а их поражения — тоже великими, потому что всякое крушение женского сердца для большой актрисы не может быть маленьким.
При ней — колоссальный опыт мастерства, графическая четкость сценического рисунка, воздушная тонкость техники, виртуозное музыкальное чередование смятения, вспышек гнева и — печального смирения («будь поласковей со мной сегодня, я так несчастна...»). Этот багаж способен превратить «двойной виски со льдом» в благородное театральное вино.
Евгений Калмановский когда-то писал о ее игре: «музыка талантливого проживания жизни». Она продолжает талантливо ее проживать при любой погоде, в самых неталантливых театральных обстоятельствах.
Заблудившаяся принцесса
(Ольга Яковлева в «Любовных письмах»)
«Я любил ее, когда она пришла во второй класс, похожая на заблудившуюся принцессу», — говорит герой Олега Табакова в финале «Любовных писем», когда узнает о смерти своей возлюбленной Мелиссы Гарднер.
«Заблудившаяся принцесса» — звучит, конечно, слишком эффектно для подлинной драмы, которую разыграли два замечательных актера, и фраза эта грозила бы остаться приторно-карамельным комплиментом на прощанье, под занавес, если бы... Если бы Ольга Яковлева именно это не сыграла: неугасаемое душевное сияние в потемках «потерявшейся» жизни.
Актриса и сама, заметим, похожа на «заблудившуюся принцессу». Она, вокруг которой когда-то выстраивался театр, вдруг очутилась, словно в дремучем лесу, на подмостках неродной сцены, без короля и королевства — с точки зрения искусства режиссуры «Любовные письма» и есть «дремучий лес», куда волею случая попали два больших артиста. Две темы, которые Яковлева ведет в этом спектакле наряду с любовной, — темы сиротства и богооставленности — обретают здесь дополнительный смысл.
Впрочем, после эфросовского пространства любая сцена для нее — темный лес, тайга, пурга, с которыми она отважно справляется, подобно арбузовской Тане. Эфрос в свое время нашел замечательную метафору ее «заблудившейся» души, «нездешности» ее облика, полудетского ангельского голоса. В телефильме «Таня» Игнатов (Николай Волков) просыпается и видит, как посреди тайги стоит пианино, за ним сидит женщина и играет. Вокруг деревья, весенняя беспутица, деревянные бараки, как бы правда жизни, — а она сидит себе посреди тайги и музицирует, словно принцесса из сновидения. В этом кадре Эфрос будто навеки вырвал ее из любого быта, освободил от печальной необходимости сюжетной логики и жизненных соответствий, усадил за инструмент: играй! Выше! Чище! Нежнее! Любая сцена для нее теперь — условность театральной территории, где надлежит играть.
В «Любовных письмах» Яковлеву и Табакова рассадили по двум разным углам сцены, отгородив занавесом, снабдили бумагой и перьями — дескать, пишите письма! Режиссер мог бы не беспокоиться и не утруждать себя «подбором» музыкального сопровождения (тем более, что подобрано оно на редкость банально: заходит речь об Италии — тут же звучит нечто «итальянское», об Америке — дежурный «фольк» или джаз...). Между тем подлинная музыка этого спектакля возникает, когда встречаются два голоса — мужской и женский. Их перекличка — сквозь годы и расстояния — и образует музыку спектакля. Табаков играет благородно-сдержанно, иронично, неожиданно суховато для себя. Яковлевские нервные всплески, как морские волны, разбиваются, словно о волнорез, о «каменную» невозмутимость его интонаций. Он пластически сдержан и статичен. Она — вся вихрь, кружение (недаром он жалуется в первых, детских страницах переписки: «другая девочка танцует мелкими шажками, а ты вечно заставляешь кружиться в танце!.»). Яковлева действительно весь спектакль заставляет, провоцирует его «кружиться», волноваться, терять голову — поскольку сама пребывает в постоянном, неостановимом движении. Трагическую тему она ведет с хулиганской джазовой свободой, лирику то и дело взрывает эксцентрикой. Она не дает угаснуть человеческому в нем, и, когда он бронзовеет от непосильных государственных дум, она его расталкивает, оскорбляет, теребит... «Ты скоти- и-и -на! Ты очень меня обидел!. Я тебя уже месяц не видела! Выборы- ы-ы!» Сколько сарказма, сколько нестерпимой, чуть ли не физической боли, сколько гневного презрения ко всему, что не есть любовь, а значит, враждебно человеческой природе. Никакой звучащий по радио дежурный джаз не в силах конкурировать с яковлевским голосоведением. Словно в оперной партии, она музыкально рассчитывает ритмические, психологические, эмоциональные перепады, виртуозно меняет интонационные и жанровые регистры. Как прелестно валяет дурака в детских и юношеских страницах («Карау- у-ул! Мама вышла замуж!. Меня сейчас ведут к психиатру!.»). Как бесстрашна и беззащитна в своих поздних срывах и ночных жалобах.
Яковлева «перелистывает» в этой роли страницы целой жизни — она играет детство и старость, нестерпимое душевное сияние и последнее отчаяние. Легкая шляпка на светлой голове, дудочка, движение навстречу — через всю жизнь — к партнеру («Я тоскую по тебе! Я по тебе скуча- а-аю!» — звучит рефреном сквозь все ее письма), и — полубезумная, простоволосая в финале, стремящаяся прочь («Я не хочу тебя видеть! Я толстая! Старая!»). «Я так хочу услышать тебя, даже если это только на бумаге!»
Последний, неоконченный спектакль Эфроса, который он репетировал на Таганке, был спектакль по пьесе И. Дворецкого «Общество любителей кактусов». Там два человека тоже пишут друг другу письма сквозь всю жизнь и общаются — «только на бумаге». После смерти Эфроса «Театральная жизнь» опубликовала «Дневник репетиций», последних, январских. О чем Эфрос просил артистов? Что оставил в своем послании? «Тут не логическое чтение, тут прорыв к другому человеку, который мы позволяем себе только мысленно... Прорвался тайный чувственный мир — это страстный духовный посыл... Внутренний мир распирает человека. Можно писать о любой чепухе, а посыл: „Отзовись, где ты там?! Отзовись!"... Тут надо выразить что-то глубоко скрытое путем беспомощным, откровенным...»
Через много лет Яковлева с Табаковым отзываются в своем спектакле на его давний призыв: в «Любовных письмах» выражают нечто глубоко скрытое, что тревожит их героев всю жизнь. Герой Табакова почти неподвижно сидит весь спектакль у своего столика, как бы держит в мужских руках ситуацию, постоянно сдерживает яковлевские «бурю и натиск», ее великий гнев, а заодно ее великую любовь. Только в финале, когда героини не станет, он взволнованно, сбивчиво, очень открыто объяснится ей в любви.
Мелисса Гарднер к финалу жизни спивается. Яковлева не обходит этот мотив, но сказать, что она играет алкоголизм, было бы неточно. Скорее, она играет сильнейшую душевную нестабильность, кошмар одиночества, сумасшедшие перепады ртути в термометре, вечные психические «up and down». А еще, как уже отмечалось, она отчетливо, хоть и негромко ведет две важнейшие темы, звучащие трагическими подголосками к теме любви: сиротство и богооставленность. Когда умирает отец Энди и она шлет ему соболезнования, вдруг, очень тихо, признается в сокровенном: «Хотела бы я иметь такого отца». Когда она пишет ему о Богом забытой стране, вдруг внезапно спросит: «Или Бог забыл только меня одну?» Здесь ее трагическая лирика бесстрашно прорывается, не подстрахованная и не прикрытая уже ни эксцентрикой, ни вихревыми джазовыми кружениями по сцене. Как просил на последних репетициях ее режиссер: «прорвался тайный чувственный мир, нечто глубоко скрытое... путем беспомощным и откровенным».
И все это — с щемящей грацией надломленного, но не сломанного душевно существа, в артистических доспехах большого стиля. Когда ее Мелисса своей легкой, неуловимо-танцевальной походкой уйдет в темноту кулис, у ее партнера — такого невозмутимого, такого удачливо-американского сенатора Энди — словно перехватит горло и он ощутит такую не американскую тоску.
P. S. Тридцать лет назад Алиса Фрейндлих выходила к микрофону в финале спектакля «Люди и страсти» и замечательно пела на стихи Гейне:
Высокочтимой публикой
Отмечен был успех поэта.
Теперь театр пустой такой,
Ни оживления ни света...
Уж крысы злобные снуют
В партере темном там и тут -
Чадит в последней лампе масло.
Все пахнет горечью сейчас,
И вот огонь, шипя, угас,
Ах, то душа моя угасла...
Огонь то и дело то зажигается, то гаснет в наших театральных светильниках, и многое, слишком многое «пахнет горечью», как в том давнем театральном романсе. Времена сменяют друг друга. Вспыхивают и гаснут новые имена, легенды, лица... Между тем легенды наших героинь никем и ничем не могут быть потеснены и затемнены. Они выходят на сцену — там загораются «оживление и свет». И не потому, что имена их уже принадлежат истории театра, в которой их успех навеки отмечен высокочтимой публикой. Нынешний зритель «старомодно» замирает от одного их присутствия на сцене, потому что душа их театра — не угасла. Эта душа хранит их гордую отдельность от театральной суеты и преходящей моды, новейших течений и технологий...
В свое время Ю. М. Лотман написал отдельную главу «Женский мир» в своей книге «Беседы о русской культуре». За сценическими созданиями наших героинь — не просто техника и школа, но, как возвышенно выражалась одна моя знакомая старая актриса, — «Миры- ы-ы -ы!»
Нам повезло увидеть эти «миры», узнать, как выглядят на сцене их улыбки, походки, как звучат голоса. Они демонстрируют с подмостков поэтический строй души — волнующий, загадочный и цельный женский мир — в мире, где «женскому» остается все меньше места. Вокруг их «миров» не выстраиваются нынче театры. Театр наш становится преимущественно «мужским», по крайней мере, новое поколение режиссеров интересуют мужские страсти и мужская проблематика. Женщины в их спектаклях — функция, в лучшем случае отсвет мужских драм. Поэтому новая режиссура обходится без них, а они — без нее. (Ситуация, озвученная давным-давно голосом Ахмадулиной «Не плачьте обо мне, я проживу...») «Трагизм эроса» (определение П. Громова в адрес искусства молодой Яковлевой остается в силе) и тема экзистенциального одиночества, «наклон чувств», посылаемый в пустоту, — они продолжают играть «про это».
«Время наше уходит», — горестно вздыхала одна чеховская героиня. При всей объективной краткости женского и актерского времени, их в р е м я не ушло и не уходит, покуда они выходят на сцену.
Поскольку они взволнованно, стремительно и несуетно играют только «важное и вечное» (еще одно чеховское выражение).
Ольга Скорочкина
Петербургский театральный журнал №24 2001 год Апрель