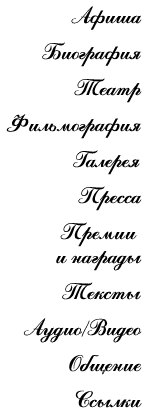https://wik-end.com лучших проекторов для дома. Заказать контекстную рекламу: интернет реклама заказать в москве www.leadtheway.ru.
Из беседы с Алисой Фрейндлих
ИЗ БЕСЕДЫ С АЛИСОЙ ФРЕЙНДЛИХ
7 октября 1996 года.
БДТ. Гримуборная №14
— Ваше самое раннее и приятное, даже восхитительное впечатление детства?
— С какого возраста?
— С какого себя помните.
— Не знаю, было ли оно восхитительным или просто запомнилось, чёрт его знает. Я же тогда не в состоянии была оценить, восхитительное оно или нет. Я просто помню, что была страшно за это обласкана... Тётушка моя, папина сестра, тётя Циля, заканчивала в то время консерваторию. У неё как раз был дипломный период. И я была в обалдении от её игры. Не помню, умела я говорить или ещё не умела, но соображать соображала. У нас дома стоял рояль, и была такая штучка — камертон, и старшие всё время проверяли, есть у меня слух или нету. Они шлёпали в этот самый камертон и заставляли меня повторить ноту. И я в голос точно повторяла. А потом дядька мой, он озорной был, в самый неожиданный момент, например, когда мы садились за стол, опять — тук-тук, и я эту ноту брала! И такой восторг за столом был, такая раздавалась похвальба... Мне это было очень приятно. Я была как царица. И все были счастливы. Мне было меньше трёх лет.
А потом они взяли меня на свой дипломный спектакль. Мне уже три исполнилось. Днём. У тёти Цили было замечательное контральто, она пела Полину, а дядя Ираклий, её муж, он грузин, у него был тенор, и он пел Германа... А взяли они меня на сдачу спектакля «Корневильские колокола». Папа, мама, бабушка — все пошли слушать и взяли меня, поскольку девать было некуда. И я потом во дворе всё распевала: «Смотрите здесь, смотрите там...» и «Плыви, мой чёлн, по воле волн». На всю жизнь запомнила, хотя после этого ни разу не видела «Корневильских колоколов». Это приятное воспоминание.
Но, честно тебе признаюсь, гораздо больше запомнились страдания. Например, помню, как я была драна за то, что удрала из дома. Бабушка по утрам ходила в булочную, и каждый раз, если она брала меня с собой, я получала пирожное — трубочку с кремом. А тут у меня была скарлатина. Меня, конечно, оставили дома, и я спала, когда бабушка ушла. Болезнь заканчивалась, шли какие-то последние мои сидения дома. И бабка ушла без меня, бабуля моя! Это тоже где-то на четвёртом году жизни. Проснулась — дома никого нет. Подставила табуретку, открыла дверь и, оставив квартиру нараспашку — теперь нельзя так делать, а тогда можно было — побежала за бабушкой, по Мойке, мимо швейной фабрики Володарского.
— А вы где жили?
— На Мойке, 64, угол Гривцова. Прямо на Исаакиевскую площадь наши окна выходили, красота необыкновенная... И я попёрла по набережной, через мост, через дорогу, мимо фабрики, и бабушку нашла в булочной. И оттуда всю дорогу обратно была шлёпана по заднице.
— А вы страдали по поводу пирожного?
— И по поводу пирожного. Я побежала потому, что не получу то, что обычно получала. А уж потом была за это стёгана скалкой. С мамой помню — тоже однажды убежала из садика и тоже была бита, и бабушка всё руки подставляла, чтобы мне не попало. Меня обычно скалкой шлёпали...
А папа любил страшно гримасничать. И раненько, раненько меня к зеркалу посадил, и я тоже начала гримасничать, и это тоже было предметом моей ранней гордости — вот, я тоже умею так делать.
А потом война началась, блокада — это уже не раннее, это уже школа, и вот тут даже были экстремальные радости на фоне этого сумасшедшего бытия... Конечно, ты себе не представляешь, и мы тогда, в том возрасте не очень понимали, что происходит... У нас соседка была дворничиха...
— По лестничной клетке?
— Нет. У нас коммунальная квартира была. То есть сначала отдельная, потом наш флигель разбомбили, и мы все съехались к папиному старшему брату в одну комнату, все три семьи. А соседка была дворничиха. Ну, а люди умирали или уезжали, бросали квартиры. Квартиры стояли открытые. И она мне из какой-то квартиры однажды принесла куклу. Старинную, с фарфоровым лицом и дивным атласным платьем, совершенно необыкновенную куклу в кружевах. Это случилось после того, как нечаянно сгорел мой пупс. У меня был любимый пупс, целлулоидный — помнишь, были такие тогда? Наверное, ты не помнишь или не играл в такие игрушки, естественно. Ну, может быть, видел, они задержались довольно долго... Из буржуйки упал уголёк, и пупс сгорел. Страдание было необыкновенное. И она мне выискала новую куклу. Она была фантастической, я такой никогда не видела. Кринолинчик до земли, с ленточками, чёрт знает что! И личико фарфоровое или фаянсовое, представляешь? У кого-то в доме сохранилась такая старинная, несоветская кукла. Вот это был восторг!
— А вы всю блокаду здесь прожили?
— Всю войну.
— Когда произносят «блокада» — что это для вас?
— Для меня в основном бабушка. Она установила в доме совершенно потрясающий режим. Одно из главных блокадных впечатлений — часы. Нам всё выдавалось по часам. Не дай господь, чтобы кто-нибудь что-нибудь съел вперёд. Три-четыре часа ты сидишь или лежишь и следишь за стрелкой. И все так. Я самая старшая была, мне было шесть лет, когда началась эта зима, двоюродному брату — четыре, а сестричке двоюродной девять месяцев. И часы эти запомнились.
— Большие, настенные?
— Да, и мы смотрели. Особенно играть сил-то не было.
— Как звали бабушку?
— Шарлотта Фёдоровна... Фридриховна она была, но по-русски уже Фёдоровна. Их выслали потом в двадцать четыре часа, и мы с мамой остались вдвоём. Но самую тяжёлую зиму мы ещё были вместе, три семьи, трое детей, трое взрослых — бабушка, мама и папина младшая сестра с девятимесячной дочкой. Бабушка поехала с сестрой, и детей забрали, остались только мы с мамой до конца войны. Папа с ТЮЗом эвакуировался последним самолётом. А меня не было в городе, когда началась война. Я была с детским садиком в Вырице, и мама приехала за мной, а нас, детей, уже отправляли в эвакуацию. Мы уже сидели в вагонах... Помню, мама меня буквально вытащила из вагона за лямочки от сарафана. Нас ведь везли не в Питер... Кто знает, как бы сложилась судьба дальше. Могли бы и потеряться друг для друга.
— Бабушка выжила?
— Умерла в эшелоне. Их везли куда-то под Красноярск или Свердловск. Не доехала. Мы даже не знаем, где её могила... Помню, когда мама провожала их на вокзале, там стояли большие котлы. Под ними были костры, и в них варились макароны, и они вываривались до состояния теста. Это тесто тут же замерзало, его рубили на буханки и выдавали вместо хлеба... Ну, естественно, бабушка тут же отрезала кусок и дала маме.
— На каком вокзале?
— Ну, откуда идут в Сибирь. Не помню. Я знаю, что многие в разных местах осели. Кто-то из наших под Свердловском, кто-то в Казахстане, баба Мара, по-моему, под Красноярском.
— А где вы учились в блокаду?
— А вот здание со львами на Исаакиевской площади. Там отучилась первые два класса. Потом три года жили в Таллине, а с шестого я опять уже вернулась в старую школу номер 239, и её уже и заканчивала.