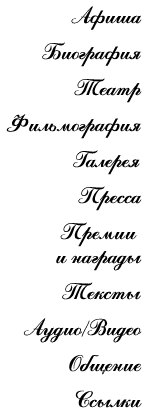Действующие лица
Вот белоснежная Таня из пьесы Арбузова притаилась в маске за оконным занавесом. Вот рыжая, строптивая Катарина издевательски хохочет над своими укротителями. А вот иссохшая, пепельная Катерина Ивановна в "Преступлении и наказании"- сутулится, сдерживает смертельный кашель.
Это — Алиса Фрейндлих.
Если она — Таня, и Таня решается уйти из дома, то уходит так, словно выбегает ненадолго, в магазин или в кино. Сразу не осознаешь, что ее решение бесповоротно. Но в том-то и дело, что ее потребность уйти оттуда, где лгут, не может быть заглушена никакими соображениями.
Если она — Джульетта, и с ней пытаются заговаривать о Парисе, она не возмущается. Но так произносит "клянусь, что он женой меня не назовет", что слово "клянусь" не замечаешь. Ясно и без клятв: она поступит так, как задумала.
Когда в сцене бала Джульетте живется легко и просторно, это и есть ее настоящая жизнь, а не вступление, данное для контраста с ее последующими переживаниями. Когда она встречает Ромео, то принимает свое новое состояние безраздельно и просто, словно любила Ромео всегда. Даже монолог "Ромео, я иду! Пью за тебя!", монолог, разрушающий все связи с тем, что было вчера и позавчера, и устанавливающий страшное единство с вечностью, Джульетта произносит спокойно, чуть монотонно, вроде бы это и не монолог, не исповедь, не очищение, а просто еще одно новое состояние, которое тоже, оказывается, можно испытать. Робости перед бездной у нее не больше, чем перед любовью к Ромео. Кто-нибудь это назвал бы абсолютной независимостью человеческого духа, а она никак не назовет. Джульетта жила, любила и умерла, вот и все.
Героизм — то состояние, когда человек совершает что-либо выше своих возможностей, — героиням Алисы Фрейндлих чужд. Они не ставят себе задачу служить примером самоотверженности, целеустремленности. Их задача — жить естественно, никому не мешая, но и не допуская непрошеных вторжений в свою жизнь. При этом они вообще могут избегать конфликтов, как, например, мадам Алиса во французской комедии "Двери хлопают". Мадам Алиса меньше всего желает, чтобы в жизни совершалось что-либо чрезвычайное. Она обожает ритуал обеда, когда собирается вся семья. Но не догадывается, что этот обед, как и все предыдущие, закончится скандалом: разбитыми тарелками, опрокинутыми стульями, хлопаньем дверей. Никто не в силах установить пределы ее наивности. И на этой почве тоже возникают скандалы. Но мадам Алиса решительно не понимает, в чем можно ее упрекать. Наверное, претензии к ней потому не достигают цели, что она не знает, как защищаться. Да и в самом деле: разве быть простодушной так уж непозволительно?
Впрочем, если бы не Алиса Фрейндлих, мадам так бы и осталась комичной и вполне заурядной особой. Для Алисы Фрейндлих сентиментальность и рассеянность мадам — способ сделать ее свободной. Углубленность мадам в самые незначительные проблемы, ее невозмутимость и деловитость, ее походка, хотя и вполне изящная, но какая-то кукольная, естественна лишь в атмосфере ее дома, среди кактусов, которые она так сосредоточенно поливает, — все это смешно и в то же время не очень весело. Потому что мадам Алиса со всей ее демонстративной беззащитностью, непритязательностью вынуждена за что-то цепляться, в чем-то оправдываться и бороться с чем-то таким, чего она и знать не желает.
Но вот что удивительно: в конце концов фантастические представления мадам Алисы оказываются полезны для ее близких, очищают их, придают им силы, чтобы вновь от нее убежать и завертеться в своих идеях и принципах. Героини Алисы Фрейндлих не хотят быть обособлены. Они, быть может, только для того и созданы, чтобы любить и понимать других. Но у них, как у Элизы Дулитл в "Пигмалионе", с трудом выходит обучение тому джентльменскому языку, на котором изъясняются в обществе. Что касается Элизы, то в начале пьесы она, как известно, выглядит весьма нелепо. Когда Элиза заученно повторяет, что она бедная девушка и ее нельзя обижать, нет оснований думать, что это и впрямь серьезное возражение. Кому понадобится ее обидеть! Ее разглядываешь так же, как Хиггинс и Пикеринг,- с любопытством и снисхождением к элементарности ее понятий.
А вот у Алисы Фрейндлих получается так, что мучительные попытки Элизы правильно говорить вызывают нешуточное сочувствие. Когда Элиза предлагает фиалки, думаешь не о том, что она груба и безобразно одета, а о том, что этой бедной цветочнице очень уж хочется продать фиалки. А потом вместе с Элизой хочешь, чтобы урок фонетики поскорее закончился. Неловко, что такая милая девушка находится в таком дурацком положении.
Алиса Фрейндлих играет не совсем то, что написал Бернард Шоу. По законам высокой иронии Шоу почти не мотивирует поступки Элизы. Напротив, можно только изумляться трогательной нелогичности женского ума. А для Алисы Фрейндлих главное то, что в Элизе неизменно, несмотря на все метаморфозы. Она играет не превращение Золушки в Принцессу, а характер, силу и сложность натуры, умеющей не только впитывать, но и противостоять. Поэтому профессор Хиггинс рядом с нею выглядит чудовищно недальновидным человеком. Не важно, что все на свете для него состоит из междометий и глаголов. В глазах Элизы он чудак, то есть человек хороший. Но он упивается своим красноречием, он навязывает свое чувство юмора, свою манеру жить. А ведь Элиза пришла к Хиггинсу только потому, что не умела говорить красиво. Чувствовать она и раньше умела. Конечно, Элизе еще не ясно, что в ней заложено превосходство над Хиггинсом, над кем бы то ни было, кто считает себя вправе диктовать свою волю другим. Она боится Хиггинса. Стесняется своих слов. Но взгляд ее достаточно дерзок, а покорность иронична. Это и раздражает профессора в большей степени, чем то, что Элизе не дается фонетика.
Да, такая Элиза может и не влюбиться в Хиггинса, может обойтись и без него. Но сюжет, конечно, не меняется. Элиза приходит к профессору и с нежностью подает ему домашние туфли. И тем не менее эта идиллия не приносит тебе покоя. Как бы ни были правдивы чувства Элизы к Хиггинсу, кажется, что она преувеличивает их. Как бы ни был счастлив финал, чувствуешь, что у героини Алисы Фрейндлих могла быть какая-то совсем другая, более счастливая жизнь.
В "Преступлении и наказании" обреченность ее героини очевидна. Ей сострадаешь, но вместе с тем понимаешь, что наступает ее спасение, когда она тихо умирает, словно выпросив минуту для передышки.
Катерину Ивановну в исполнении Алисы Фрейндлих возможно судить по законам, установленным самим Достоевским. Во всяком случае, здесь образ сценический полностью совпадает с твоим представление о литературном образе. Такое редко бывает. Но уж если случается, то возникает ощущение, что кто-то близкий тебе, но существующий лишь в твоих воспоминаниях, явился живой и вернул тебе заново какое-то твое время, уже однажды прожитое.
Тем не менее хочется подтверждений, что перед тобой все та же Алиса Фрейндлих и голос ее, и манеры те же, пусть по необходимости измененные, но не Достоевскому принадлежащие, а ей одной. Что поделаешь, она к этому приучила. Но она устанавливает непосредственную связь с романом таким образом, что это не умаляет ее самостоятельности, напротив, заставляет думать о ее безукоризненном вкусе, о чувстве стиля. Что помогает ей быть уверенной и свободной при любых обстоятельствах.
Она появляется, ожесточенно энергична, ей привычно не хватает воздуха, и взгляд ее устремлен в одну точку, к которой она словно прикована, словно, если упустит ее, то будет тотчас раздавлена, пропадет. Катерина Ивановна напряжена до предела, но ее борьба бесплодна. Это вовсе даже и не борьба, но фанатическое желание утверждать одно и то же, словно от этого она сумеет пробиться сквозь стену, превозмочь непосильную тяжесть, давящую на нее.
Алиса Фрейндлих защищает свою героиню. Она дает ей тонкость, и деликатность, и глубокое внутреннее презрение ко всему меркантильному, мелочному. Иными словами, она дает ей все, что способна дать. И поэтому бесконечные ссылки Катерины Ивановны на свою благородную дворянскую юность обретают основания, становятся вполне оправданным вызовом тем, кто не хочет считать ее достойной. Но все эти реальные свойства в мире вещей не более чем мираж, это и сводит Катерину Ивановну с ума. Когда героиню Алисы Фрейндлих предают, как Гелю в "Варшавской мелодии", тебе кажется, что совершилась непоправимая ошибка. Ты не хочешь с этим смириться, а сама она даже в счастье тревожна. Словно дразнит ее какая-то злая сила, которая в один прекрасный день может отнять у нее все, что ей дорого.
Это, впрочем, не делает ее осторожной. Геля живет с подчеркнутой небрежностью. Играет в легкомыслие. Внушает, что на каждом шагу нужно ее поправлять, кажется даже, что Геля получает удовольствие, когда Виктор указывает ей на какое-нибудь слово, которое она неверно произносит по-русски. Но Виктор, единственный, любимый человек, незаметно для себя оказывается под ее опекой. Она действительно нуждается в защите, но ей самой необходимо спасать и поддерживать. Ей нужно не столько забыть о своей слабости, сколько то, чтобы Виктор почувствовал себя сильным, ответственным за себя и за нее. Когда он, смертельно уставший, неожиданно засыпает перед самой встречей Нового года, Геля сразу же забывает, что ей так хотелось в компанию, и тихо, с почтительным удивлением наблюдает за ним.
Виктор спит и не видит, как она изменилась, стала серьезна и собранна. Если бы он смог увидеть ее, такую для него необычную, странную, он бы, наверное, вспомнил еще раз все, что говорила она невзначай, придал бы именно этому решающий смысл. Услышал бы ее печаль: "чудаков после войны не осталось". Воспринял бы эту печаль как нечаянный укор ему, Виктору, за то, что он не способен быть чудаком. Но Виктор спит, и Геля его не будит. Только потом, когда жизнь пройдет у них порознь, споет ему Геля при встрече песенку с упрямым и грустным рефреном: то — ты, то — я, ты — там, я — здесь, ты — сам по себе, и я — одна.
Алиса Фрейндлих переиграла немало ролей, мягко говоря, утомительных для талантливого человека. Она умеет не стесняться самого непроизносимого текста. Зато в настоящей пьесе легкий акцент ее Гели обновляет значение самых привычных слов, будто впервые они произносятся.
автор В. Семеновский
"Неделя" № 35 — 1973 г.