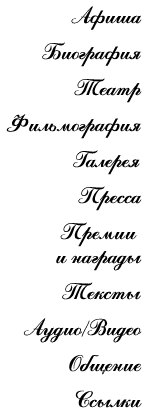https://udarnik.com.ru стальные ванны kaldewei. Смотрите описание шкаф купе стеклянный тут.
Алиса Фрейндлих
Роли Алисы Фрейндлих начиная с самых ранних, сыгранных на сцене ленинградского драматического театра в конце 50-х годов, звучат в едином, строгом и чистом строе. Имена ее героинь уже составляют легенду, складывающуюся двадцать лет, обозначают целый мир, интонационно богатый, полный рельефных деталей, и при этом мир, графически очерченный. Ранние, юные роли стали счастливым началом. Обаяние ее героинь было исключительным, но и очень характерным. Органическая свобода от фальши, деятельный, непосредственный интерес к жизни в молодой актрисе были знамением времени. Тогда на сцену пришел тип героини, которому в творчестве Фрейндлих была суждена бурная эволюция.
Котька ("Светите, звезды"), Катя ("Раскрытое окно"), Маша ("Рождены в Ленинграде"), — уже самые ранние работы актрисы удивляли профессиональной зрелостью, "грацией и чувством стиля". Они запали в память индивидуальным сочетанием насыщенного лиризма и отточенного рисунка. Впоследствии эта сжатая формула все более развертывалась и драматизировалась. Заведомое обаяние образа, тонкое кружево интонаций, своею музыкальностью завораживавшее зал, не исчерпывали содержания ее работ.
Постепенно стало явным, что не "прикладная" лиричность в той или иной сценической ситуации, а стихия лирики, лирики в широком значении, составляет своеобразие и силу сценических созданий актрисы.
Так, уже арбузовская Таня в исполнении Фрейндлих, с ее прихотливой, безупречно музыкальной игрой интонаций поражала резким, смелым контрастом этой прихотливой игры с немотой отчаяния. В результате и высеклась в роли искра подлинной лирики. В начальных сценах "протанцовывались" каждое слово, взгляд, жест: Таня проживала свое счастье втрое интенсивнее, чем любая на ее месте. "Музыка талантливого проживания жизни", — так выразился об игре этой актрисы ленинградский критик Е. Калмановский. В сцене, когда у Тани умирает сын, этой музыке противопоставлено бессильное онемение. Таня сидела у окна, наступал рассвет, она не двигалась с места. Это длилось долго, зритель вслушивался в ее молчание, прикованный горестной сосредоточенностью героини. Горе было столь же интенсивно, как ликование первых сцен. Немота была музыкально красноречива, действие продолжалось.
На наших глазах восставал из пепла опечаленный и знающий цель жизни человек. Бетховенская песня "Милее всех был Джемми" звучала с исключительной глубиной. Оковы льющейся классической мелодии воспринимались как духовный результат того драматического пути, которым прошла героиня от первых стихийных порывов певчего, юного существа через немоту горя. Живое страдание и превозможение его талантливым человеком — вот что звучало здесь.
Если Таня, несмотря на резкий и смелый рисунок роли, оставалась в русле привычных для молодой актрисы программно обаятельных, прелестных образов, то о Селии Пичем, прожженной буржуазке из "Трехгрошовой оперы", этого сказать было нельзя.
Однако стихия лирики, присущая Фрейндлих, обнаружилась здесь с особой внушительностью.
Селия Пичем не воплощала животную, сальную плоть частнособственнической стихии, как это могло быть в других театрах. Селия Пичем — Фрейндлих была последним откровением существования, смачно разыгрываемого другими персонажами "оперы", последним его откровением и последней тоской. Селия Пичем — жалкое существо, но на деле зритель не мог не чувствовать ее неумолимой власти. Скрипучий, то хнычущий, то порывающийся к скандалу голос, — это тление жизни притягивало к себе, ибо говорило последнее слово тогда, когда остальные еще имитировали деятельность. Не тело уже, а какая-то кукла скатывается по лестнице, всем на потеху: не лицо — а то, что на глазах мертвеет до порции алкоголя. Откровеннее быть нельзя. Жутко было подмечать в шатающейся, скрежещущей Селии Пичем следы благородных манер и былой человеческой осмысленности. И тут начина звучать лирика.
Селия находилась в стадии полного бесчувствия ко всему и скрежетала в своей шарнирной пластике, скрипучих репликах по одной неумолимой инерции. Искусство перевоплощения служило здесь тому, что в образе, представлявшем, казалось, отрицательную величину, открывалась трагедия отчуждения человека во всем убожестве и серьезности происходящего. Циничные ужимки старой развалины, какой являлась миссис Пичем, были отточенно артистичны. Полный духовный и физический распад героини представал в законченном виде, находил у Фрейндлих совершенное художественное выражение, сценическую формулу, подобную той, какой является "Любительница абсента" Пикассо — исходная точка образа, созданного актрисой.
Отсюда уже был ход, совершенно оригинальный, к зонгам. Не актриса, "покинувшая свою героиню", отчужденная от нее, выходила к рампе. Нет, сама Селия Пичем так много значила в спектакле, была настолько масштабна, что, казалось, ее хватает на эти зонги. Индивидуальный образ пьяной дамы действительно отходил в тень. Но другая, обобщающая миссия Селии Пичем выходила на первый план, и героиню будто прорывало — страстно, с победной горечью пелся комментирующий суть происходящего зонг. Горечь, пожалуй, была концентрированнее, острее, лиричнее принятой: вопреки брехтовской традиции пела именно сама Селия Пичем. Пела так, словно Брехт и Вайль имели в виду именно это — человеческое пробуждение, внезапное просветление Селии. Пафос гражданского самосознания и великолепная ирония зонгов "Трехгрошовой оперы" были у Фрейндлих качествами нового характера героини, который рождался на авансцене на наших глазах. Умная энергия музыки Вайля, превосходящая, перекрывающая все ритмы комментируемого ею действия, помогла Фрейндлих в создании необыкновенно масштабного образа. Скрипучие интонации Селии сменялись в зонге жесткостью, все договаривалось до конца. Голос — сильный, не столь гибкий и переменчивый, как в "Тане", нацеленный на одно: взять в плен, а не пленять. Метаморфоза Селии Пичем, такой неожиданно артистичной, подтянутой теперь, была удивительна.
Так начался новый период в творчестве актрисы. Каждая серьезная роль была открытием новых творческих возможностей Фрейндлих, необычайно широких. На сцену театра имени Ленсовета после Джульетты, Элизы Дулитл, Гелены, Лики пришли Катарина, Катерина Ивановна, Малыш, Дульсинея, Мать из пьесы "Двери хлопают", Мария-Антуанетта. Общее в лучших работах Фрейндлих — музыкальная выстроенность роли, единый лирический стержень, благодаря чему сценическое существование героини становится особенно красноречивым. В ходе действия не случайно возникает пение — это пробиваются наружу подспудные источники лирики, образуя узлы и ступени в драматическом развитии роли.
Иногда обманывалась актриса и обманывался театр, когда пытались эксплуатировать эти забившие музыкальные ключи сами по себе, окружив их пустячным сценическим антуражем. Получался пустяк, внешнее обольщение, немое и в музыкальном и драматическом отношении. Сильный художественный эффект достигается там, где талант актрисы сопрягается с серьезным заданием режиссуры. В дорогом для ленинградского зрителя спектакле "Мой бедный Марат" Лика — Фрейндлих проживала, как и ее партнеры Л.Дьячков, и Д.Барков, несколько "эпох" — исторических, душевных. Свернувшаяся калачиком в блокадном холоде девочка начинала спектакль. Немного позднее она танцевала вальс с Маратом, танцевала с поразительной женственностью, не раскутываясь из своих неуклюжих одежек, по-прежнему сберегая тепло. Вальс этот был — на всю жизнь, хоть от него и пытались отречься. Как из кокона, рождалась, развертывалась на сцене человеческая судьба. Существует блестящий и весьма глубокий анализ спектакля, сделанный ленинградским критиком С.В.Владимировым (см.: С.В.Владимиров. "Драма. Режиссер. Спектакль". Л., 1976, стр. 149-154).
Критика поразила человеческая подлинность, жизненность сценических связей в маленьком актерском ансамбле, его содержательность, преданность исторической истине.
Актриса становилась в спектакле душою времени, верной себе и бесконечно живой. Содержание образа набирало масштаб в ходе действия, в результате драматического общения с партнерами, в сопряжении с режиссерским замыслом.
Многие театралы шли "на Фрейндлих" и видели весь ансамбль с неувядающей внутренней жизнью, помудревший, с очень выросшими актерскими работами. Это, пожалуй, было этапом — для актрисы так же как и для театра: более гибким и творческим стало взаимодействие актера и режиссера.
Было, бытовало отношение к Театру имени Ленсовета как к театру "одной актрисы". Последнее десятилетие отбросило эту форму как ограниченную, принижающую реальное значение искусства и актрисы и театра. "На Фрейндлих" ходили и ходят, такова во все времена магнетическая сила таланта. Но приходят — в театр со своей значительной историей, с живым, современным лицом, с труппой, богатой сильными индивидуальностями, начиная со стоящего во главе театра Игоря Петровича Владимирова: Леонид Дьячков, Анатолий Равикович, Галина Никулина, и не только они.
Несколько лет назад в журнале "Театр" была напечатана статья П.Громова о пути театра имени Ленсовета. Именно там, едва ли не впервые, творчество Фрейндлих было поставлено в связь с художественными традициями и поисками ленсоветовцев, и шире — с тенденциями советского театра вообще (см. П.П.Громов, "Традиции и современность. Театр имени Ленсовета, его режиссура и актеры". — ж. "Театр", 11-1973, стр. 73-87).
Можно видеть, как внутреннему росту режиссуры Владимирова соответствует у актрисы раскованность средств, сила и масштабность общего рисунка роли. В "Преступлении и наказании" Катерина Ивановна (как ни приковывало нас к себе ее существование, когда время, отпущенное ей на сцене, переживается как последняя минута) была частью целого в постановке, звеном в общей цепи. Ничтожность наличного существования распаляет до накала фантастическую, призрачную жизнь Катерины Ивановны. Потрясает у Фрейндлих суетливая оживленность Катерины Ивановны в сочетании с внутренней сосредоточенностью — бесплодное ли это мечтание о богатом и веселом папенькином доме, или устрашающе молчаливое отчаяние. Полным итогом этой губительной, бешенно напряженной жизни могло быть емкое слово "безвозмездность".
В сцене сумасшествия и гибели Катерины Ивановны, когда она идет с детьми на улицу в надежде заработать денег "маленькими концертами для благородных слушателей", перед глазеющими на человеческую агонию горожанами Катерина Ивановна кружится в вальсе и поет пасторальную французскую песенку, но вальс безумен, смертелен, грациозность его фантастична, это ранящие осколки, а песенка про пастушку совсем не забавна: песенка задыхается, интонации ее обрывисты, хриплы: "Умереть спокойно" не дано Катерине Ивановне. Протест героини , изнурительный, неистовый и безграничный, под стать в спектакле мутящейся мысли Раскольникова, одинокому стоицизму Сони, восторгу Миколкиной веры. Ее гибель с пасторальной песенкой на устах, сыгранная актрисой с трагической силой, многое говорит о петербургских буднях, их каторжной серости и призрачном тумане.
Алиса Фрейндлих находила себя в стихии самых разных жанров. После Катерины Ивановны была Катарина в "Укрощении строптивой". Подчеркнутая, полемическая по отношению у сценической традиции лихость спектакля оказывалась жестким лапидарным выражением идеи, данной в названии шекспировской комедии. На сцене происходило действительное укрощение, "превращение" живого, независимого человека. Катарина — Фрейндлих, как язык пламени, сверкала на сцене. Песни ее (о, эти песни Гладкова на стихи Рацера и Константинова! — к ним еще вернемся.) были по-настоящему отчаянными. Однажды мне случилось оказаться в пустом зрительном зале за сорок минут до спектакля. Актриса проигрывала "голодную песню" Катарины — вдруг отчетливо зазвучал голос Селии Пичем. Очевидно, неприкаянная, вовлеченная помимо воли в игру в укрощение, Катарина в песнях словно восстанавливала свои права независимого, живого человека. Она пела именно вопреки внешней лихости музыки, пародийной безвкусице текста. Катарина проходила в спектакле, писал П. Громов, путь от "злого упоения" первых сцен до ее конца, когда в "результате действий Петруччо Катарина на наших глазах превращается в куклу". Роль Катарины строилась как борьба собственной музыки образа с ординарностью музыкального натиска представления. Борьба приводила к отказу от своей музыки, оканчивалась слиянием с опустошительным напором музыки укрощения. Катарина пыталась поэтизировать прозаический итог, выдавала за некое откровение заурядное семейное преуспеяние. Тем рельефнее выступала реальная немота, амузыкальность, кукольность новой Катарины.
Укрощалась не только строптивая героиня, но отчасти и музыкальная актриса и гениальный автор. Театр подавал тему укрощения живого человека с какой-то всеобъемлющей брутальностью. Лихое ускорение, приданное шекспировскому тексту, делало спектакль опустошительным вихрем, вовлекало зрителя в круговорот на скорую руку подтасованных человеческих отношений. Петруччо, как бы находясь на арене, демонстрировал особо опасный номер — укрощение невесты. Катарина — Фрейндлих была фейерверком комедийной сноровки, но механичность, как видно, в принципе не присуща, противопоказана ей. В результате образ обретал неподвластный пародии драматизм.
Вообще роли Алисы Фрейндлих 70-х годов, если можно так сказать, насыщены диалектикой, внутренне предельно динамичны. Раньше в творчестве актрисы было больше гармонии! На спектаклях с ее участием происходило всякий раз чудо узнавания, ожидаемое и никогда не обманывающее чудо.
А теперь зритель не раз бывал потрясен новыми и новыми откровениями такого, казалось, знакомого ее артистического почерка. Интуиция зрелого таланта открыла такие горизонты, о которых не подозревали поклонники замечательной актрисы в начале 60-х годов. Казалось, что прежняя Фрейндлих изнутри взрывается, перерождается.
Новая Фрейндлих поразила бесстрашием. Душа Ленинграда, выжившая в блокаду (Маша, Лика), любимая зрителями и любящая их, — вот образ Фрейндлих 50-60-х годов. Теперь в созданиях актрисы разверзаются бездны, ее творческий дух преодолевает их сознательно и безбоязненно.
Кружево ломких интонаций, нежный и колкий их рисунок может теперь служить общему саркастическому решению, как в спектакле-концерте "люди и страсти" (эпизод из Гейне).
В сквозное музыкальное движение представления по произведениям немецкой классики от Гете до Брехта вплетаются пять ролей, сыгранных Алисой Фрейндлих. Пафос гордого духа юного Уриеля, трагикомизм человека и истории в сцене из "Вдовы Капет". Душа театра, всемогущего и мудрого, — вот диапазон актрисы, и все эти характеристики музыкально связываются ею как ступени одной грандиозной темы.
Актриса берет широкое дыхание и выдерживает его. Начинает Акоста — в интерпретации Фрейндлих это дитя человеческое, подросток, Яростно рвущийся к духовному высвобождению. Кульминация, конечно, "вдова Капет" — здесь конфликтное развитие темы спектакля достигало вершины, здесь вырвался наружу незаурядный трагический темперамент, воочию проявило себя артистическое бесстрашие; острый и лаконичный рисунок всей сцены, делавший честь режиссуре и актрисе, врезался в память зрителей надолго. Заканчивался спектакль прощанием с "душой театра" на лирически сосредоточенной ноте: Фрейндлих пела стихотворение Гейне.
Спектакль стал серьезной удачей театра, весьма плодотворной для актрисы, но обнаружился в нем и характерный срыв, белое пятно в творческом сцеплении. Вторая половина зрелища была построена на материале брехтовского "кавказского мелового круга". Насколько эти сцены при всей сочной театральности одухотворены (Аздак — А.Равикович принадлежал более, чем Брехту, народной легенде, площадному театру, был библейски мудр и человечен) — настолько сценический комментарий Фрейндлих и Боярского лишен внутреннего содержания, скатывался к театральной банальности. Чувство недоумения рождал неподдельный, но тем не менее беспредметный азарт, с каким актриса участвовала в этом "дуэте певцов". В спектакле, посвященном воссозданию целостного, единого пути большой культуры, исторического движения ее тем и конфликтов, это выглядело анахронической цитатой из примитивных обозрений, отошедших в прошлое.
Актриса делит с театром его поражения и удачи, составляет немалую долю его славы и находит в нем содержание своего искусства. Банальное здесь может подстерегать рядом с самыми большими творческими взлетами. Алисе Фрейндлих в лучших ее работах свойственно очищать, делать прозрачной банальную прозу жизни, обнаруживать в ней высокую лирику. Не случайно в "Дульсинее Тобосской" это стало темой целого спектакля.
Он был поставлен после "Укрощения строптивой". Дульсинея не менее Катарины своенравна, так же отстаивает внутреннюю свободу, однако ее путь противоположный. Мы присутствуем при стремительном духовном расцвете героини, и отстаиваемая ею свобода обретает на наших глазах конкретное сложное жизненное содержание и глубину.
Вначале же была именно пустота, с художественной силой нарисованная Алисой Фрейндлих. Песня "Ночь тобосская темна" выражала то еще оцепенелое, невоплощенное человеческое содержание, которое должно раскрыться и раскрывается в ходе володинской притчи о наследии Дон Кихота. Музыкальный старт Альдонсы поражает небывалым у актрисы первозданным, "деревенским» звуком. До пасторали, однако, здесь так же далеко, как в песне Катерины Ивановны про пастушку из "Преступления и наказания". Человек "до судьбы", только подступающий к подлинной драме жизни, весь сказывается здесь, в огромной энергии и тоскливом незнании цели.
Затем, когда на Альдонсу обрушиваются тупые обвинения жениха и свидетельства Санчо Пансы о любви к ней Дон Кихота, с героиней происходит чудо. Она бунтует. Альдонса, с ее нерастраченной душевной силой, сразу приравнивается к самому Дон Кихоту. В память об идеальном рыцаре Альдонса — Фрейндлих фантазирует, пренебрегая житейским интересом.
В песне, которую она буквально кричит здесь ("Все! Было!"), как и в первой, стартовой своей песне, актриса преодолевает примитивность, а порой и прямую пошлость материала. Мешают ли спектаклю по володинской пьесе, унижают ли актрису вставки из весьма уязвимых текстов Б. Рацера и В. Константинова? Пожалуй, нет, ибо преодоление такого материала оказывается в спектакле последовательно выдержанным содержательным принципом.
В мюзикле, представленном на сцене театра имени Ленсовета, резко сталкиваются два лагеря, два принципа жизни.
Дон Кихот умер, но его тень витает над спектаклем. В тексте пьесы и в глубоком исполнении А.Равиковичем роли одинокого оруженосца пошлость исключена, идеал спектакля незапятнан. Главные герои продираются к нему и, таким образом, несут его в себе отнюдь не шутя. В спектакле есть пафос благородный, демократичный убедительно подлинный для любого непредвзятого зрителя. Тексты, столь возмущающие и даже шокирующие подчас безвкусием, участвуют в спектакле как немаловажная стихия. В сценах скандалов, завершающих каждый из трех актов представления, на героев нахраписто наваливается веселая, победительная пошлость, и прискорбной фальшью звучали бы в них стильные диалоги.
Самое убедительное подтверждение высказанному дает исполнение роли Дульсинеи. Столкновение Алисы Фрейндлих с материалом, который она поет, по-настоящему драматично. Дульсинея похожа на Дон Кихота в той мере, в какой она оказывается в состоянии перекрыть силой и благородством духа низменную стихию, что подстерегает человека на жизненном пути.
Правдивость объективной коллизии спектакля, содержательность победы, которую одерживают тут артисты, составляют достоинство постановки. Стык жизненной и художественной коллизии, пожалуй, и делает "Дульсинею Тобосскую" в этом театре мюзиклом, взаимодействие которого со зрительным залом активно и напряженно. Человеческий драматизм спектакля дорогого стоит, и ошибаются те, кто брезгливо и одновременно заворожено сосредоточен на ущербности текстов, вложенных в уста поющей актрисы. Банальность материала у нее разрешается подлинной поэзией. Такое разрешение делается реальным в драматических работах, там-то и рождается настоящая лирика, там-то и прочерчивается сквозь все действие строгий, графический и в то же время бесконечно живой рисунок.
Так называемые "современные" роли Фрейндлих — Щеголева ("Человек со стороны"), Ковалева ("Ковалева из провинции")- ценны тем же процессом кристаллизации лирики. Не обязательно это должно происходить с такой долей сладости, как в фильме "Служебный роман". Обязательно другое: как в увеличительном стекле , вдруг обнаруживается перед зрителем ценность человека, его ( то есть ее) стойкость , ожидание счастья. Любая характерность у актрисы, при всех подробностях приспособлений, иногда почти наивных, не ограничивается самоцельной характеристикой. Так, поражающая юность Уриэля Акосты — мотив его бескомпромиссности; комическая сгорбленность старухи на суде у Аздака — это мудрая и лукавая улыбка Фрейндлих — "души театра". В Малыше из сказки А. Линдгрен поражало, как изящно избежала актриса штампа травести: она играла маленького художника, превозмогавшего свое одиночество.
Ее героиня нередко проживает несколько десятилетий в одном спектакле (Лика, Гелена), и Фрейндлих, эта заложница лирики в драме, раскрывает в роли единую тему становления, взросления души.
Несколько лет назад в Ленинграде был сделан телевизионный фильм о Фрейндлих. Это был интересный опыт рассказа об актрисе исключительно средствами кино. Театральные роли абстрагировались от сцены, существовали в стерильном окружении съемочной площадки. Графичность рисунка ("словно узор, морозом вырезанный на стекле", — выразился как-то о ее работе критик Ю. Смирнов-Несвицкий), самостоятельность лирической стихии в искусстве Фрейндлих вышли на первый план. Но фильм, снятый с любовью к актрисе ничего не рассказал о живом дыхании театра, единственном условии ее творчества. Ведь даже самые лучшие ее роли в кино нередко эксплуатируют уже рожденное в муках на сцене.
Сейчас снят новый фильм о Фрейндлих — в нем театр, пожалуй, дышит даже слишком жарко, а потому за суетой его бурных будней упущена тайна обаяния художника. Эти крайности — объективны, в них бьется реальная судьба актрисы, недаром они находят отражение и в содержании спектаклей.
Одна из последних по времени роль Фрейндлих — Раневская. Можно только догадываться, какие неиспользованные возможности видит в этой свое работе актриса. Душевная жизнь героини в основном скрыта от зрителя и от партнеров. Жизнь в Париже сделала из Раневской кокетку даже для домашних. Только раз, отчитывая умного и острого Петю, она приподнимает забрало усталого кокетства, но это лишь обороняя свои привычки. Лирике эта Раневская не принадлежит нимало.
На сцене сильный актерский ансамбль, с четко выраженной у каждого персонажа темой. Щемящая детскость, но без наивности, Гаева (И. Владимиров), отчаяние страдающей за всех Вари (Г. Никулина), горечь и драматизм Лопахина (Л. Дьячков), вековечный шепот ветхого Фирса (А. Равикович), умная строгость Пети (С. Заморев), надменный скепсис Шарлотты (Л. Киракосян) — и усталое кокетство Раневской, существующей как бы сама по себе. Классическая кризисная роль. Какою станет новая Фрейндлих после первого испытания Чеховым?
Что копится под спудом "невыговорившегося" образа?
Тем временем Фрейндлих сыграла новую роль в современной пьесе — Филаретову в "Спешите делать добро" М.Рощина. Это бесспорная удача: с великолепной сжатостью рисунка и внутренней свободой творится образ дамы из комиссии по работе с несовершеннолетними. Этакий застылый одинокий человеческий островок, исполненный рвения по службе.
На этот раз героиня Фрейндлих, при всем своеобразии, не отчуждена от остальных. Живые связи актеров на сцене весьма значимы, без них потеряла бы убедительность проблема доброго человека. Такого человека талантливо играет Л.Дьячков. Не раз дуэт этих актеров обнаруживал особую театральную звучность и эффектность (В "моем бедном Марате" или "Преступлении и наказании", например). Филаретова и Мякишев, герои нового спектакля, представляют собой разные полюса, ощутимо взаимодействующие. Возникает театральная энергия, заражающая зал драматизмом проблемы добра. Где-то в отдалении стоит и за этой героиней Селия Пичем, с ее холодом и ее человеческой тоской, с тем же, в конечном счете, духовным максимализмом сверхзадачи.
Этот максимализм роднит все лучшие роли актрисы.
В упоминавшейся уже статье, посвященной театру имени Ленсовета, было сказано: "кажется, что у таланта Фрейндлих нет границ, кажется, что актриса может играть все, остроиндивидуально решая это "все". Тут, в этом качестве Фрейндлих напоминает больших актеров 20-30-х годов, скажем Хмелева, который играл и дворника Силана, и Каренина, и царя Федора". (см. статью "Традиции и современность", журнал "Театр", 11-1973).
Фрейндлих еще выскажется — как большая актриса — в большой драматургии.
"Театр" № 10 — 1980 г.